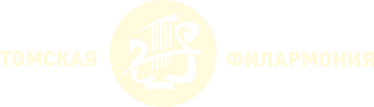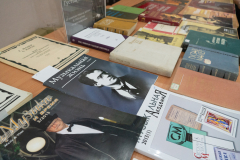На втором концерте абонемента «Вечер одного шедевра» 9 ноября Томский академический симфонический оркестр представил томской публике Четвертую симфонию Густава Малера.
Огромный лоб, впалые щеки, орлиный нос, выразительный взгляд за стеклами очков… Эти черты Густава Малера тиражировали обложки книг, журналов, виниловых пластинок, представленных на выставке «Густав Малер: в поисках смысла жизни», посвященной 165-летию композитора. Ее подготовили сотрудники Пушкинской областной библиотеки специально к концерту «Вечер одного шедевра». Свой, музыкальный, портрет юбиляра слушателям предъявил Томский академический симфонический оркестр.
От конца к началу
На роль шедевра была выбрана Четвертая симфония Густава Малера. Ее называют «загадочной», «симфонией-хамелеоном», самой «классической» из всех симфоний композитора, а также «моцартовской» и «камерной».
Есть еще одно определение: «песенная» или «симфония, родившаяся из песни». Оно и стало ключевым для главного дирижера Игоря Берендеева в его трактовке симфонии, которая из всех десяти симфоний Малера (десятая осталась незаконченной) стоит особняком.
Действительно, в финале Четвертой звучит песня «Мы вкушаем радости небесные». И написана она была раньше предшествующих ей трех частей. Но не для Четвертой, а для Третьей симфонии. В ней вокальная миниатюра «Небесные радости» была седьмой песнью и не вошла в Симфонию о сотворении мира.
В постижении особенностей Четвертой симфонии, считает Игорь Берендеев, надо идти от конца к началу, от песни к сонатному аллегро. Это и есть ключ к пониманию замысла Малера.
Что ж, последуем за указанием дирижера. В народной песне, текст которой композитор позаимствовал из собрания немецкого фольклора «Волшебный рог мальчика», поется о небесных радостях. По мысли Малера, в финале симфонии должен звучать детский голос. Ведь и герой песни – ребенок, который попал в Царствие небесное. О жизни в раю он рассказывает наивно и простодушно: здесь все сыты, все живут в нежнейшем покое, поют и танцуют, нет мирской суеты…
Почему же эти важные, отчасти философские смыслы – о Добре и Зле, об обретении счастья и гармонии – вложены в уста ребенка? Вспоминается христианская догма: единственный инструмент, подходящий для разговора с Богом – человеческий голос. А также поговорка: устами ребенка глаголет истина. У Малера устами ребенка глаголет сама Музыка как высшая субстанция бытия.
Еще одно авторское указание – обозначение темпа финала как «Очень уютно» – адресовано исполнителям. Значит, Малер вел слушателя к просветлению и достижению гармонии через принятие неземного блаженства? Но в голосе солистки Томской филармонии Марии Чайковской (сопрано) звучала скорее тихая печаль, чем ангельская радость, подспудно ощущалась и скорбь.
Кстати, отметим красивый голос певицы, ее прекрасную вокальную школу (Мария до приезда в Томск работала в Центре оперного пения Галины Вишневской). Быть может, печаль вышла на первый план, потому что Добро торжествует, но не в мире людей, а в мире ангелов? Потому что счастье и гармония с миром обретаются за пределами человеческой жизни?
Тень трагедии на финал Четвертой бросает и оркестровое сопровождение. Бубенчики, которые возвращают слушателей к началу симфонии, в интерпретации дирижера и оркестра прозвучали отстраненно холодно. Как голос Смерти. Хотя, казалось бы, ей нет места в Раю. Но ее голос достиг Небес.
Стало совершенно очевидно: Смерть как обещание будущей трагедии присутствовала изначально. Именно этому незримому персонажу маэстро Игорь Берендеев отвел роль главного двигателя музыкальной интриги. Правда, в первой части она скрывалась под различными масками.
Во второй – «дружочек Смерть» обнаружила себя голосом скрипки, настроенной на тон выше (эту партию исполнил концертмейстер оркестра Семен Промое). Появления этого карнавального персонажа предваряет голос первой валторны (Захар Никифоров). Валторна выступает в роли рассказчика о площадном театрике, где «дружочек Смерть» заставляет духовые и струнные издавать дисгармоничные, пугающие звуки, как будто уличный оркестрик чудовищно фальшивит, наигрывая веселый танец. Этой пляской (оркестр играет сложное рондо) Смерть соблазняет Ребенка (его голосом стал гобой Дениса Смирнова) и вовлекает его в свои сети.
В третьей, самой красивой и медленной части – его сердце останавливается: пиццикато виолончелей и контрабасов звучит все реже, глуше и стихает совсем. И сразу под призывные звуки труб, под оркестровое tutti раскрываются Врата Рая. Как обещание будущего блаженства звучит тема песни «Небесные радости» из четвертой части.
Трагическая окраска оркестрового звучания в финале, неожиданно придает горький смысл «юмореске» Малера. Какой уж тут юмор, если ребенок умер! Разрешая загадку Четвертой симфонии все-таки в пользу трагедии, Игорь Берендеев перекидывает мостик из начала ХХ века, когда была написана симфония, в начало XXI столетия. Более того, он связывает свою интерпретацию с традициями русской культуры.
Русский след в немецкой симфонии
На встрече со слушателями «Без фрака» (сразу после концерта) Игорь Берендеев открыл еще один секрет, который можно считать вторым ключом к Четвертой Малера. Он указал на тематическую связь симфонии и святочного рассказа «Мальчик у Христа на ёлке» Достоевского. И предположил, что композитор был знаком с рассказом.
У Достоевского голодный и бедно одетый мальчик лет шести выходит в сумерках из грязного, холодного подвала, где умирает его мать, на улицу, сияющую в темноте огнями рождественских ёлок. Он заглядывает в окна богатых домов и видит, как вокруг огромного дерева, украшенного свечами, яблоками и конфетами в золотых бумажках, играют дети, смеются и что-то едят. В другом доме через стекло он снова видит дерево посреди комнаты, а на столах – разные пироги! Он входит в тот дом, надеясь поесть, но ему подают копеечку. Увы, его замерзшие пальчики не удержали монетку, выронили ее. Мальчику стало обидно и тоскливо. Даже кукольный театр в витрине магазина не заставил его забыть о голоде. В конце своего путешествия по праздничному городу, мальчик оказывается в каком-то дворе. Там он и засыпает около поленницы дров. Во сне он слышит тихий голос, который зовет его: «Пойдем ко мне на ёлку, мальчик»! Мальчику становится тепло, вдруг он видит свет, все блестит и сияет, вокруг него летают светлые мальчики и девочки, целуют его и забирают с собой. И вот он уже летит, видит свою улыбающуюся мать и узнает, что приглашен на Христову ёлку… А наутро дворник нашел труп маленького мальчика.
Поразительно, как схожа концепция Малера с сюжетом русского классика! Как много общего, в том числе – сострадание к судьбе ребенка! Если посмотреть на Четвертую симфонию через призму «выдуманного» рассказа, то финал с песней ангелов становится закономерным и, можно сказать, смыслообразующим.
О влиянии творчества Ф.М. Достоевского на Густава Малера не раз писали отечественные музыковеды. Например, о том, что романы Достоевского были настольными книгами в семье Малера. И что образ России ассоциировался у композитора с творчеством Достоевского. По утверждению авторитетного музыковеда Инны Барсовой, именно у Достоевского Малер находит этическую опору, моральное руководство в жизни. Нравственным императивом для композитора стали слова из романа «Братья Карамазовы»: «Как я могу быть счастлив, если хоть одно существо на земле страдает».
Недаром после концерта дирижер повторил слова композитора: «Перечесть Достоевского – это важнее, чем контрапункт».
Пророчество «странствующего подмастерья»
– Принято думать, что каждый дирижер мечтает сыграть Малера. Я долго не мог к нему подступить, – признался Игорь Берендеев слушателям. – Нужно было найти ключ. Помог Шостакович. Работа с партитурами Шостаковича подготовила меня к работе с партитурами Малера.
Маэстро напомнил о Пятнадцатой и Седьмой симфониях Шостаковича. Завсегдатаи Томской филармонии понимающе кивали головами. Некоторые могли бы добавить: не только у Шостаковича, но и у Шнитке можно обнаружить следы Малера. Например, вторая часть вызвала ассоциативное воспоминание о Гоголь-сюите, также не раз звучавшей в исполнении оркестра и Игоря Берендеева.
Назвав прямо три ключа, маэстро о других высказался опосредованно, заметив, что «топливом» для вдохновения могут служить личные трагедии, душевные травмы, болезненное переживания из-за утрат и ошибок. Рассказ о судьбе композитора подтверждал этот тезис. Потери близких (смерти младших братьев и сестер, а потом и дочери), муки ревности из-за неверности любимой жены, постоянная «бездомность», ощущение себя везде чужим, вынужденное отречение от веры (Малер вынужден был принять католичество, отказавшись от иудаизма, чтобы сохранить за собой пост директора Венской оперы), – все это так или иначе преломилось и нашло отражение в музыке композитора.
Следуя предложенной логике, можно предположить, что партитуру Четвертой симфонии Игорь Берендеев изучал через призму биографии композитора. Быть может, поэтому симфония приобрела характер исповеди.
Когда во второй части симфонии перед мысленным взором слушателя возникал образ бедного и голодного мальчика, оказавшегося в большом и шумном городе, которого соблазняли веселыми мотивами, богатыми витринами магазинов, не себя ли в десятилетнем возрасте изображал Малер? Ведь он, понукаемый отцом, начал зарабатывать на жизнь музыкой очень рано.
Маэстро и музыканты как будто писали портрет композитора, для которого катализатором творческого поиска были боль, страдания, а счастье и гармония обретались им только в процессе создания и исполнения музыки.
Думается, неслучайно в рассказе о творчестве Малера Игорь Берендеев упомянул автобиографические «Песни странствующего подмастерья», которые композитор написал на собственные стихи в самом начале своей карьеры.
С образом «подмастерья» Малер ассоциировал себя всю жизнь. Никогда не сгладились в его памяти несколько лет странствий по Германии, когда выпускник Венской консерватории менял города и оркестры. Не забыл он насмешек опытных оркестрантов над молодым и горячим «капельмейстером», который отчаянно спорил с устоявшимися традициями формально-холодного исполнения венских классиков и немецких романтиков.
Подвергаемый насмешкам и атакуемый критиками за «эклектику», «подмастерье» в своих сочинениях продолжал оставаться верен себе.
Не стоит забывать и того, что песни как жанр, по словам малероведов, всегда были лирическим дневником композитора, способом выразить невыразимое, самое сокровенное, высказать самые выстраданные мысли о смысле жизни. Поэтому и в песне, которая завершает Четвертую симфонию, тоже можно услышать сокровенный мотив Малера.
Говоря о месте Малера в истории музыки, Игорь Берендеев сослался на определение, которым часто характеризуют этого немецкого композитора – композитор-пророк. «В начале ХХ века он предсказал многие катаклизмы, в том числе и войну, которая обрушится на мир через четырнадцать лет», – пояснил дирижер.
Важнее, на наш взгляд то, что Малер «предсказал» смену культурных парадигм и разрушение привычных музыкальных форм. Не просто «предсказал», но продемонстрировал в Четвертой, казалось бы, самой «классической» симфонии.
Заметим, время ее написания – 1900 год, время первого исполнения – 1901. Другими словами, вступая в ХХ век, композитор намеренно обращается к традиции венских классиков, будто решая проверить, работают ли старые правила и принципы. «Долой программы!» – написал Малер в том же 1900 году. Он хотел, чтобы современники воспринимали его как «чистого музыканта», который живет «в царстве музыки, за пределами пространства, времени и форм индивидуального проявления».
В своей «юмореске», как обозначил жанр в начале работы, Малер намеревался избегать любых новшеств, строго следуя форме симфонии.
– Но именно по форме эту симфонию не собрать! – с горячностью замечает Игорь Берендеев.
Стилизуя Четвертую под старую музыку, желая отдать дань золотому веку венских классиков, Малер показывает, как вся эта венская классика летит в тартарары. Форма перестала быть живой, потому что изменились смыслы, которые ее наполняли. На рубеже веков венская симфония как вершина музыкальной композиции не способна отражать жизнь. И Малер как настоящий декадент разрушает ее. «Юмореска» наполнена мрачным гротеском или горькой иронией. Поэтому его попытка обрести рай в четвертой части симфонии звучит как тревожное пророчество будущих бурь.
В завершении хочется сказать два слова о формате встреч «Без фрака», который придуман в Томской филармонии специально для абонемента «Вечер одного шедевра». Он позволяет, с одной стороны, напрямую узнать мнение аудитории, а с другой – поговорить о музыке, сразу после концерта, когда еще не остыли впечатления. Когда хочется продолжить существовать на одной волне…
После прослушивания Четвертой симфонии настроение было именно такое: хотелось делиться впечатлениями и совсем не хотелось расходиться по домам, чтобы не растворять в суете и быте то особое состояние, которое породило в душе музыка Малера. Его можно сравнить с трансом во время гипнотического сеанса.
В свое время Малер, в ответ на критику заметил: «Мое время еще не пришло». Сегодня мы с полным правом можем ответить композитору: «Ваше время пришло, господин Малер».
Текст: Татьяна ВЕСНИНА
Фото: Елена АСТАФЬЕВА